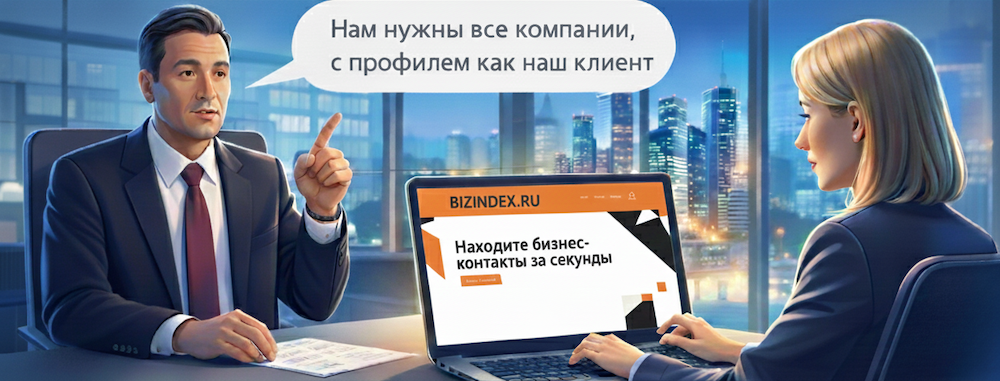Влияние и присутствие Достоевского на немецком языке. Фрагменты обзора от конца XIX века до сегодняшнего дня просмотров: 762
Хорст-Юрген Герик (Horst-Jürgen Gerigk)
Влияние и присутствие Достоевского на немецком языке
Фрагменты обзора от конца XIX века до сегодняшнего дня
История влияния и эстетический опыт
Достоевский, вполне очевидно, принадлежит к тем образам нашей духовной истории, которые имеют свойство становиться катализаторами самоопределения (Selbstfindung) для тех, кто ими занимается. Спор с Достоевским всегда заканчивается исповедью интерпретатора, признанием того, что интерпретатор считает справедливым, или другими словами – признанием Добра, Истины и Красоты. Чтение Достоевского действует как приказ совести. Достоевский – катализатор, он остаётся без изменения, после того как произвёл своё действие.
Подобное воздействие производит в духовной истории последних ста пятидесяти лет ещё только Ницше. О нём можно также сказать, что каждый, кто только приблизится к нему, почувствует влечение признать: окончательно высказаться о том, что следует считать истиной. Также и к Ницше относится, что он ведёт своих интерпретаторов к тому, чтобы высказаться о том, что происходит явно или подспудно, громко или шепотом - в зависимости от темперамента.
Да, следует констатировать, что сравнениемежду Достоевским и Ницше давно стало отдельным направлением исследований [1], которые продолжаются до сегодняшнего дня. Тем не менее, нельзя упускать из виду существенные различия между Достоевским и Ницше, а именно - состав читателей. Коротко говоря: романы Достоевского достигают даже таких читательских слоёв, которые никогда не взяли бы в руки сочинения Ницше; в то время как всё говорит о том, что читатели Ницше всегда являются также читателями Достоевского. Русский литературовед Леонид Гроссман метко охарактеризовал суть дела в отношении Достоевского: «Роман Достоевского – это смешение Платона с Эженом Сю» [2]. То, что здесь Эжен Сю возвышается до типажа, совсем не случайно. Достоевский был знаком с ним и даже хотел перевести на русский язык его роман Матильда (Mathilde ou les memoires d'une jeune femme) (1841). Но имя Эжена Сю связано, прежде всего, с Парижскими тайнами (Les mysteres de Paris, 1842 f.) – и действительно, Достоевский очаровал нас в своём стиле бесконечными тайнами Санкт-Петербурга – «вонючего города», Петербурга, как состояния души. Но мнение Гроссмана подтверждается и тем, что Достоевский сегодня является знаменитостью не только на философских и теологических семинарах, но и, одновременно, находит своё место также на витринах книжных магазинов: на первый взгляд совершенно неотличимый от современных бестселлеров: Преступление и наказание рядом с Клиентом Джона Гришэма (John Grisham, Der Klient).
«Достоевский в Германии» – точнее: «Достоевский в немецкоязычном пространстве». Здесь мы имеем перед собой не просто широкое поле, но широчайшие поля! Что делать, чтобы размежевать [их] надлежащим образом?
Как вообще можно овладеть историей влияния писателя, великого «поэта», Достоевского? Ответ: прежде всего, двояким способом. В качестве первого я могу исследовать распространение его сочинений, то есть готовность издательств в немецкоязычной среде выпускать переводы произведений Достоевского. А затем я могу выяснить высказанные и опубликованные мнения о Достоевском. Оба способа можно применить без особых трудностей. Только [проблема]: «Воздействие» документов такого влияния я с помощью этого ещё не осознал, ибо в головы читателей заглянуть нельзя; и какое влияние оказывает литература «о» Достоевском на своих читателей – сведения также имеются у нас только в особых случаях, причём такие вербализации немедленно подвергаются обвинениям в идеологизаторстве, что справедливо также, естественно, для всех публикаций прямой реакции на его сочинения. Нетронутым из этого остаётся лишь то, что эстетический опыт всегда осваивает идеологически свободное пространство; уясняют ли себе это отдельные читатели или нет – совершенно несущественно.
Таким образом, остаётся констатировать, что фактическое влияние Достоевского состоит не в сумме его документально подтверждаемой истории влияния, которое имеет только что названные следы. Да, я хочу категорически заявить, что «чтение» Достоевского, как первоначальная форма его присутствия, отделена непроходимой пропастью от документально подтверждаемой истории влияния, ибо документы истории влияния всегда имеют нечто невыгодное по сравнению с актом чтения. Обратились к главному: кто в состоянии адекватно сформулировать свой собственный эстетический опыт!
Однако, несмотря на эту трудность, есть, очевидно, совершенно различные читатели Достоевского: поскольку есть философы культуры, теологи, психологи и юристы; поскольку есть коллеги-писатели и поскольку есть литературоведы – в данном случае немецкие слависты, которые прибавляются, как самая последняя группа читателей. Но независимо от этого, естественно, существует «общий» читатель Достоевского, который как книжная моль и книжный червь остаётся анонимным. Но он образует основу всего распространения идей. Обязателен, следовательно, взгляд на подготовку немецких переводов сочинений этого русского писателя. Предыстория столь длительна, что первое немецкое полное собрание сочинений Достоевского, которое гарантировало непрекращающееся освоение его произведений для многих поколений читателей до сегодняшнего дня, появилось в 22 томах в издательстве Piper (Piper-Verlag) в Мюнхене между 1906 и 1919 годами. После этого оно вновь и вновь переиздавалось Артуром Мёллером ван ден Бруком (Arthur Moeller van den Bruck) в сотрудничестве с Дмитрием Мережковским в переводе с русского Э.К. Разин (E.K. Rahsin), это псевдоним Элизабет («Лесс») Каеррик, ставшей впоследствии невесткой Мёллера ван ден Брука. Лесс Каеррик умерла в Мюнхене в 1966 г. в возрасте 80 лет. «Красные тома романов Достоевского издательства Пипер пламенели на каждом письменном столе», - пишет Ганс-Георг Гадамер (Hans-Georg Gadamer) в своих воспоминаниях о двадцатых годах в Марбурге [3]. Совсем недавно написана первая история этого влиятельного издательского предприятия [4]. И, естественно, сейчас речь пойдёт также о новейшем переводе Достоевского, который выполнен Светланой Гайер (Swetlana Geier) для издательства Амманн-ферлаг (Ammann-Verlag) в Цюрихе и уже имеющихся [переводах романов] Преступление и наказание, Идиот и Бесы, Подросток и Братья Карамазовы.
Прежде всего, я остановлюсь здесь на том, какое эхо вызвал Достоевский в немецкоязычной философии культуры, а после этого – на истоках филологии Достоевского. Затем большой кусок составят отклики на [творчество] Мастера из России у немецкоязычных писателей, в их эссеистике и художественном творчестве. Но я не хотел бы заниматься здесь делением целостности. Итак – к делу!
В перспективе «критической истории»
Как выглядит восприятие и обработка Достоевского через немецкоязычную философию культуры? Достоевский воспринимается прежде всего в пределах того горизонта философии культуры, который раскрыт через философию культуры Ницше – с вопросом о будущем Европы, даже о будущем человечества – в центре.
В качестве представительного для данного рода интерпретации Достоевского следует назвать широко известную статью Пауля Наторпа Значение Фёдора Достоевского для современного кризиса культуры (Fjedor Dostojewskijs Bedeutung für die gegenwärtige Kulturkrisis) (1923), активно цитируемое и дискутируемое до сегодняшнего времени эссе Зигмунда Фрейда Достоевский и отцеубийство (1928), а также трёхтомный труд Ханса Урс фон Бальтазара (Hans Urs von Balthasar) Апокалипсис немецкой души (Apokalypse der deutschen Seele), второй том которого - В символах Ницше (Im Zeichen Nietzsches) (1939) - наполовину, то есть более двухсот страниц, посвящён сопоставлению Ницше и Достоевского [5].
В этих сочинениях речь идёт не о художнике Достоевском, а о мире его идей в их значении для западноевропейской культуры в её современной фазе. Не удивительно, что Достоевский играет некую роль и в Закате Европы (1917- 1922) Освальда Шпенглера. Шпенглер утверждает: «Толстой – это ушедшая Россия, а Достоевский – грядущая» [6]. И далее: «Христианство Толстого было недоразумением. Он говорил Христос, а думал – Маркс. Христианству Достоевского принадлежит следующее столетие»[7]. Такое определение обосновывается следующим утверждением: «Такая душа, как Достоевский, смотрит поверх всего социального. Вещи этого мира кажутся ей столь незначительными, что она не придаёт никакого значения их клевете»[8].
Зигмунд Фрейд, наоборот, констатирует немногим менее года позже:
«Достоевский упустил шанс стать Учителем и Освободителем людей, он присоединился к их тюремщикам; культурное будущее людей должно быть ему мало благодарно».
Это, как видно, относительно будущего человечества противоположно тому, что думает Освальд Шпенглер, когда он говорит, что христианству Достоевского «принадлежит будущее столетие». Фрейд обосновывает своё утверждение следующим образом:
«После исступленной борьбы во имя примирения притязаний первичных позывов индивида с требованиями человеческого общества - он вынужденно регрессирует к подчинению мирскому и духовному авторитету - к поклонению царю и христианскому Богу, к русскому мелкодушному национализму, - к чему менее значительные умы пришли с гораздо меньшими усилиями, чем он». ( http://www.vehi.net/dostoevsky/freid.html )
Вот вопрос: кто прав – Шпенглер или Фрейд? Без сомнения, оба могут ссылаться на определённые материалы – и это кажется мне решающим, – которые предоставляют романы Достоевского. Это значит: рассматривая герменевтически, нельзя подходить к обоим интерпретаторам с одной меркой.
Правда, Фрейд делает одно примечательное различие. Он отделяет Достоевского-писателя, то есть художника, от невротика, этика и грешника и определяет в самом начале своей статьи Достоевский и отцеубийство:
«Наименее спорен он как писатель, место его в одном ряду с Шекспиром. "Братья Карамазовы" - величайший роман из всех, когда-либо написанных, а "Легенда о Великом Инквизиторе" - одно из высочайших достижений мировой литературы, переоценить которое невозможно. К сожалению, перед проблемой писательского творчества психоанализ должен сложить оружие. - Достоевский скорее всего уязвим как моралист» [9]. (http://www.vehi.net/dostoevsky/freid.html )
Следует уже процитированная аргументация с выводом: «Достоевский упустил возможность стать учителем и освободителем человечества и присоединился к тюремщикам; […]»[10] (http://www.vehi.net/dostoevsky/freid.html). И тут следует два предложения, которые я только что не процитировал, а именно:
«В этом, по всей вероятности, проявился его невроз, из-за которого он и был осужден на такую неудачу. По мощи постижения и силе любви к людям ему был открыт другой - апостольский - путь служения» [11]. (http://www.vehi.net/dostoevsky/freid.html )
Есть выражения, над которыми стоит задуматься, а не принимать без сомнения. Однако, я хотел бы подчеркнуть в моём контексте, что Фрейд, поскольку он Достоевского, как мыслителя, ещё лучше: «идеолога» не может воспринять – притом, ни при каких условиях – отделяет художника Достоевского от идеолога Достоевского. Отделение, которое заставляет задуматься!
Это разделение, очевидно, происходит всегда тогда, когда интерпретатор не может принять смыслы Достоевского. Его не происходит, когда интерпретатор воспринимает смыслы Достоевского, или осторожнее формулирует: если интерпретатор ощущает, как существенные, только такие смыслы Достоевского, которые находят его одобрение. Все перечисленные выше работы эксплицитно задаются вопросом о пользе и вреде занятий Достоевским для жизни: это значит, для будущего и движутся в горизонте того, что Ницше называет «критической историей» [12].
То, что «критическая история» всегда открыта для демагогических злоупотреблений, очевидно. Она без сомнения является уловкой, которая позволяет себя обнаружить. Думают порой примерно так, как при марксистской трактовке Достоевского у позднего Дьёрдя Лукача (Georg Lukács), а также всё то, что тогда производилось в бывшей ГДР в исследованиях Достоевского на поводу у Москвы [13]. В своём эссе о Достоевском 1943 г. Лукач предоставляет подлинное признание марксистской стратегии толкования. Очень похожим бесцеремонным образом в апреле 1888 г. Энгельс обошелся с Бальзаком [14]. Ещё молодой Лукач не исключал в своей Теории романа (Theorie des Romans), что Достоевский мог бы быть «почти Гомером или Данте этого мира», а именно «нового мира», который не должен иметь дело «ни как-то утвердительно, ни как-то отрицательно с европейской романтикой девятнадцатого столетия» [15]. Однако, теперь это значит, что Достоевский дал на правильные вопросы неправильные ответы:
«Это понимание является особенно важным для центральной оценки Достоевского. Ведь многие – даже большинство – его социально-политических ответов являются ошибочными, не имеют ничего общего с сегодняшней действительностью, с стремлениями лучших; ведь они были устаревшими, даже реакционными, когда они были высказаны. Тем не менее Достоевский является писателем мирового уровня. Ибо он смог в эпоху кризиса в своей стране, даже всего человечества поставить вопросы в художественно разрешимом смысле [16].
Он проповедует веру, но в действительности – как человек, формирующий человеческий образ – он сам не верит в то, что современный ему человек может верить в этом смысле. Фактическую глубину мысли, настоящее рвение поиска как раз наоборот имеют его атеисты […].
Так сформированный мир Достоевского разлагает его политические идеалы в хаос. Но именно этот хаос и составляет величие Достоевского, его мощный протест против всей лжи и искажения в современном гражданском обществе» [17].
Да, Лукач не осмеливается заявлять о Князе Мышкине как о «патологии», а с Алёшей Карамазовым, «здоровой противоположностью Князю Мышкину, – агитировать за Достоевского [18]. Когда Лукач затем, ещё позже, идеологически посягает также на Кафку, ссылаясь на «социально здоровое» [19], Адорно порицает его: «если уж речь идёт об исторических отношениях, следовало бы вообще избегать слов здоровый и больной» [20].
Интерпретация является во всех названых здесь примерах средством, «чтобы стать господином над чем-то», как выражается Ницше [21]. С филологией, как «искусством правильного чтения» [22], такая «интерпретация», как слишком хорошо знает только сам Ницше, не имеет ничего общего. Речь идёт скорее о том, чтобы определить текст относительно его пользы для будущего по его значению для настоящего: именем «жизни». Культурологические (kulturkritischen) опросы Достоевского, которые многочисленны не только в немецкоязычной среде, подлежат этой в принципе на будущее ориентированной стратегии толкования – совершенно независимо от того, к какому мировоззренческому лагерю относится интерпретатор. Решающим остаётся то, что речь идёт о пресловутом доказательстве через исключение (argumentatio ex privativo), о толковании на основании невысказанного, которое обнаруживает себя, без того, чтобы оно хотело быть сказанным. Ницше сам такую аргументацию возвысил до программы, а также привёл к относящемуся к ведущим понятию: «Задние вопросы» (Hinterfragen) [23].
Прежде чем я сейчас перейду к совершенно другому способу интерпретации Достоевского, чтобы не пропустить - сошлюсь на резко отклоняющуюся оценку Берты Динер-Экштайн (Bertha Diener-Eckstein), которая утверждает, что человеческим идеалом Достоевского является нежизнеспособность. Её рассуждения под псевдонимом Сэр Галаад (Sir Galahad) опубликованы в 1925 г. в солидном издательстве Альберт Ланген ферлаг (Albert Langen-Verlag) в Мюнхене [24]. Название звучит так: Путеводитель по идиотам русской литературы (Idiotenführer durch die russische Literatur)* . Первый тираж 20000 экземпляров! Это, без сомнения, самое радикальное отторжение Достоевского, написанное доныне на немецком языке. Достоевский пишет, как сообщается, «с пеной у рта на доске дурака (Brett vor dem Kopf) своего мозга». Тем самым подло приравниваются жизнь и художественное творчество. «Буквально типичное для Сэра Галаада выражение звучит так:
«Все нервы заполняет яд эпилепсии, - напишет Достоевский, страдающий от эпилептических приступов - Евангелие от всечеловеков, с пеной у рта на доске дурака (auf das Brett) своего мозга» [25].
Позвольте закончить с откровенно до отвращения доходящим представлением Достоевского в Германии в середине 20-х годов на этой резкой атакие и безграничной непочтительности тона. И не без причины. В 1925 г., например, также было опубликовано обширное признание заслуг Достоевского – Жизнь Достоевского Карла Нётцеля (Karl Nötzel). Нётцель ставит Достоевского по значению для «его времени» рядом с Мейстером Экхартом [26].
Но, в отличие от Фрейда и Лукача, Сэр Галаад не желает видеть в Достоевском великого художника и противопоставляет его, прежде всего, Бальзаку. «Сложно надтреснутому демонизму» Достоевского недостаёт «художественной силы» [27], и его техника повествования состоит либо в том, чтобы «усиливать пытку читателя невыносимым» или «ошибается в дозе» в предварительных объяснениях, таким образом, «когда вид ножа Рогожина всякий раз предвещает, что Настасья Филипповна будет пронзена [им]» [28]. Как видно, аргументация Сэра Галаада также вращается всецело в горизонте «критической истории» Ницше. Только когда она хотела бы дезавуировать Достоевского таким аргументом, как «ведь он скрупулёзно нацеливается на воздействие» [29], то она тем самым восстановила его в истине: во имя «жизни». «Критическая история» подвержена, очевидно, непрерывной опасности попадать в ложные руки. Парадоксальным образом сам Ницше немедленно распознал величие Достоевского и считал встречи с его сочинениями «прекрасными и счастливыми моментами» своей жизни [30]. Однако,освобождение герменевтического принципа никогда не может быть связано с монополией на использование. «Критическая история» всегда вынуждена к новому применению. Её результаты обусловлены временем «per definitionem» («по определению»).
Начала немецкого достоевсковедения
Совершенно другое отношение присутствует в интонации и аргументации, как только Достоевский-художник явно перемещается в центр внимания. В 1926 г. в Берлине, в издательстве Rowohlt-Verlag вышла монография Юлиуса Майер-Графе (Julius Meier-Graefe) Достоевский, поэт (Dostojewskij, der Dichter). Как сын историка искусства, Майер-Графе представляет здесь [образец] энтузиазма и неутомимой готовности проникновения в передаваемое описание пяти больших романов Достоевского, равно как и всех имеющихся в его распоряжении романов и рассказов. Оценки остаются «эстетическими». Этим четырём сотням страниц предшествует почти стостраничное описание жизни Достоевского. Характерно сравнение с Рембрандтом: «Есть картины Рембрандта, чьё родство с Достоевским подобно пламени, прорывающему тьму» [31].
Книга Майер-Графе о Достоевском может быть обозначена как первое литературоведческое, то есть литературно-эстетически центрированное общее представление собрания сочинений Достоевского в немецком культурном пространстве. Следующие шаги к немецкой филологии Достоевского в узком смысле были предприняты, что характерно, двумя русскими авторами, которые выпустили свои сочинения по-немецки. Василий Комарович (Wassilij Komarowitsch) в 1928 г. в издательстве Piper-Verlag опубликовал своё исчерпывающее изложение истории возникновения Братьев Карамазовых под названием Прототипы братьев Карамазовых (Die Urgestalt der Brüder Karamasoff), а Вячеслав Иванов (Wjatscheslaw Iwanow) выпускает в 1932 г. свой поэтологически и мифологически мотивированный трактат Достоевский. Трагедия – Миф – Мистика (Dostojewskij. Tragödie - Mythos - Mystik) в издательстве Verlag Mohr/Siebeck в Тюбингене, в переводе с русского, выполненном Александром Креслингом (Alexander Kresling). Русский оригинал этой важной статьи пропал, так что немецкая формулировка осталась практически единственной исходной публикацией, и она также положена в основу английского перевода. Мысли Иванова к «Роману-трагедии» Достоевского были опубликованы в предварительном варианте на немецком языке уже в 1922 г. в виде брошюры (на русском – в 1911). Теперь он представлен как дистиллят, «радикально переработанный» (Иванов), в более широком контексте.
Таким образом, если филология Достоевского в Германии становится авторитетной с монографией историка искусства и двумя немецкими текстами русских авторов, то мы попадаем в контекст моих сегодняшних размышлений и вместе с этим опять в другое поле восприятия Достоевского в Германии: сейчас речь идёт о реакции других писателей на Достоевского, об эхе, которое он вызвал у коллег-писателей, ибо Вячеслав Иванов является не только филологом и философом культуры, но он также поэтом-символистом, и о его многогранных интересах недавно настоятельно напомнил Вильфрид Поттхофф (Wilfried Potthoff) в изданном им сборнике [32].
Таким образом то, что трагедия, миф, мистика трактуются поэтом со ссылкой на Достоевского, теперь кажется уместным обратить внимание на отношение к Достоевскому других, а именно немецких писателей. Я действую опять избирательно, ибо сейчас ведь ещё необходима подлинная проверка, в том числе влияния Достоевского на творческий процесс писателей в немецкоязычном пространстве.
Однако прежде пару слов о Мережковском, поскольку до Вячеслава Иванова другой русский писатель и философ культуры уже нашел широкую публику благодаря публикации на немецком языке: Дмитрий Мережковский с его монографией Толстой и Достоевский как люди и художники. Критическая оценка их жизни и творчества (Tolstoj und Dostojewskij als Menschen und Künstler. Eine kritische Würdigung ihres Lebens und Schaffens) (перевод на немецкий - Carl von Gütschow, 1903). Сравнение Достоевского и Толстого стало длительной темой [33], как сравнение Достоевского и Ницше, и не только в Германии. Tolstoy or Dostoevsky? (Толстой или Достоевский?) – вопрошает Джордж Стайнер (George Steiner) и тем самым уже в заглавии своей монографии (1959) делает предпочтение в пользу одного или другого делом совести.
Принимая во внимание достоевсковедение в настоящем смысле, нельзя забыть двух учёных, а именно Лаврина и Элиасберга. В издающейся издательством Rowohlts серии монографий (Rowohlts Monographien) в 1963 г. появилась книга о Достоевском, тираж которой, между прочим, вышел за сотню тысяч. Она также вышла не из под немецкого пера, а написана Янко Лавриным (Janko Lavrin) (1887-1986), словенцем, который учился в Москве, Осло, Париже и Санкт-Петербурге и, наконец, поселился в Англии, где он играл важную роль активного защитника европейского модерна [34] и с 1921 до 1953 занимал кафедру славянских языков в Ноттингемском университете (Universität Nottingham) (до 1948 University College). Лаврин опубликовал также воспоминания о Велимире Хлебникове [35], Его монография, изданная в Rowohlt, переведена с английского Рольфом-Дитрихом Кайлом (Rolf-Dietrich Keil).
В связи с этим следует также назвать Александра Элиасберга (Alexander Eliasberg), книга которого История русской литературы в портретах (Russische Literaturgeschichte in Einzelporträts) (1922) пользовалась широчайшей популярностью. Томас Манн прочитал её в рукописи уже в 1921 г. [36]. Кроме того, Элиасберг выступил как переводчик Достоевского. В шестидесятые годы, прежде всего Записки из мёртвого дома (Aufzeichnungen aus einem toten Hause) в его переводе, изданные в Goldmanns Gelben Taschenbüchern, нашли широкую читательскую аудиторию.
Писатели о Достоевском
Итак, теперь обратимся к немецким писателям! По поводу и обстоятельно о Достоевском выразились, например, Герман Гессе, Стефан Цвейг и Томас Манн. Да, эти трое наиболее широко известны своим отношением к Достоевскому. Между тем Франк Тисс (Frank Thiess) со своей монографией о Достоевском, которая появилась уже во второй половине 20 века (1971), остался сравнительно малоизвестным. Гессе выразил своё мнение между 1915 и 1919 гг. в трёх статьях о романах Достоевского, соответственно, Подросток, Идиот и Братья Карамазовы (Der Jüngling, Der Idiot und Die Brüder Karamasow) в смешанной поэтологической (poetologischen) и – следовало бы так сказать – этнософской (ethnosophischen) аргументации: это прежде всего к теме «Россия и Азия» со ссылкой на Братья Карамазовы. В 1920 г. эта работа получила заглавие Взгляд в хаос (Blick ins Chaos).
Лично мне, прежде всего, понравилась поэтологическая оценка романа Подросток. Гессе отмечает своё «почти поразительное удивление» «продуманным мастерством», «свежестью», «умением» Достоевского при обработке «тона» этого романа. Он видит в изображении «безопытной умудрённости этого подростка» („erfahrungslosen Altklugheit dieses Jünglings") посредством «взволнованного переживания жизни» «невероятно смелый, даже дерзкий фокус». Также Гессе видит, что «аппарат поступков» у Достоевского, это оперирование с револьвером, тюрьмой, убийством, ядом, самоубийством, безумием, с подслушанными тайными заговорами и снимаемыми каморками является вполне «не исключённым». К сожалению, Гессе даёт нам относительно техники повествования Достоевского не то, что он, сам являясь специалистом, мог бы дать. И его рассуждения о Братьях Карамазовых останавливаются в этнософских (ethnosophischen) клише в духе того времени [37].
Стефан Цвейг также подробно высказывается о Достоевском, а именно в его работе Три мастера (1919) (Drei Meistern), в которой он обсуждает Бальзака, Диккенса и Достоевского, портреты, которые полностью посвящены искусству романа в 19 веке: Достоевский, согласно Цвейгу, создал свои произведения «в истерическом бешенстве»[38], тем не менее, следует засвидетельствовать его «гениальный расчёт» всех «подъёмов» к «драматическим кульминационным пунктам», в которых «без остатка соединяются архитектура и страсть» [39]. У Цвейга уже больше не следует разыскивать этнософии, как она была само собой разумеющейся ещё для толкования Гессом Братьев Карамазовых, но вполне следует искать психологию творчества, которая пытается связать жизнь, произведение и читателя. «Жар» становиться для Цвейга главным понятием.
«Достоевский пишет в горячке, как он в горячке и думает, в горячке любит. […] Творчество для него - экстаз, мука, восторг и раздробление (Zerschmetterung), до боли доходящее наслаждение, до наслаждения доходящая боль. […] И фактически, эпилепсия, его мистическая болезнь, доходит с его лихорадочным, зажигательным ритмом, с его тёмными, смутными препятствиями, до тончайших вибраций своего произведения. Но Достоевский всегда творит целостностью своего характера, в истерической ярости»[40].
Это значит, согласно Цвейгу, что горячка автора превращается в горячку произведения: «[…] ведь все люди Достоевского являются меняющимися состояниями горячки» [41]. И горячка произведения превращается в горячку читателя: «Как некую болезнь они переживают кризис его людей в крови, как вспышка горят проблемы в подстёгиваемом чувстве» [42]. Техника изображения у Достоевского порождает в читателе через изощрённость затягивания» („Raffinement der Verzögerung") некий «духовный жар, психическую муку» [43]. Да, Достоевский часами кружит своих читателей как убийца «свою жертву», которой он «затем внезапно в одну секунду пронзает сердце» [44]. Таким образом, Достоевский переносит, я хотел бы так прокомментировать Цвейга, «творческое состояние» через своё произведение на читателя. Это аргументация Ницше, даже если Цвейг его не называет: «Никогда недуг художника не был так плодотворен, - как отмечает Цвейг, - как это художественное превращение эпилепсии» [45].
В письме к Стефану Цвейгу в 1920 г. Зигмунд Фрейд пишет по поводу (angelegentlich) Трёх мастеров:
«Если бы мне позволили самым строгим мерилом мерить Ваше изложение, я бы сказал: победа над Бальзаком и Диккенсом полностью удалась. Но это было не слишком сложно, они являются простыми, прямолинейными типами. Но с наиболее сложным русским это не могло окончиться так удовлетворительно. Поскольку чувствуются пропуски и загадки» [46].
Разумеется, как мне кажется, выражение Фрейда совершенно не следует воспринимать как критику Цвейга, а считать признанием особой сложности, которую Достоевский доставляет всем своим интерпретаторам. Для Цвейга типичным является, например, следующий пассаж о творческом состоянии Достоевского:
«Он работает ночи напролёт и пишет, в то время как его жена рядом стонет в схватках, в то время как эпилепсия уже запускает когти, чтобы выдавить ему жизнь из горла, в то время как хозяйка дома с полицией угрожает ему квартплатой и повивальная бабка ругается из-за своей оплаты – он пишет Раскольникова, Идиота, Бесов(…)» [47].
Жизнь Достоевского как мыльная опера. Это же справедливо для главы о Достоевском в Звёздных часах человечества (Sternstunden der Menschheit) Цвейга, которая представляет нам несостоявшуюся казнь Достоевского, как и в стихотворении, столь же прекрасном, сколь и пошлом как Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке (Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke) Райнера Марии Рильке.
Эссе Томаса Манна 1946 г. Достоевский – но в меру (Dostojewskij - mit Maßen) также занимается пробуждением интереса с целенаправленно сенсационными общими местами: на острие связи между гениальностью и болезнью. Достоевский ставится рядом с Ницше и Хуго Вольфом (Hugo Wolf).
Для Достоевского Томас Манн пускает в ход соединение преступления, болезни и сексуальности как центральные темы, не без того, чтобы выделить для каждой в отдельности биографические связи с прошлым: в стиле Вильгельма Ланге-Айхбаума (Wilhelm Lange-Eichbaum) – но в меру. Значительна характеристика Достоевского как «большого юмориста», определение, которое, правда, очень ловко преподнесено, чтобы не быть неправильно понятым: «Ведь в том числе, - так формулирует это Томас Манн, - этот Распятый (Gekreuzigte) был весьма большим юмористом». «Веселье духа» („Lustigkeit des Geistes") – выражение, которое Томас Манн заимствует у Ницше [48] – является для Достоевского характерным. Почти вынужденно у Достоевского, эпилептика, «видят в болезни продукт избыточной силы», «взрыв и избыток огромного здоровья». Таким образом, болезнь здесь не «стимулирующее средство большого здоровья», как Ницше формулирует со ссылкой на себя самого[49], а болезнь «как продукт избыточной силы» (Томас Манн). Акцент рассуждения явно узнаваемо находится в психологии творчества. Смотрим: Фрейд (1928) знает Цвейга (1919), Томас Манн (1946) знает Фрейда и Цвейга. Достоевский – но в меру является реакцией на апологию Цвейга, который защищает перешагивание границ Достоевского. Достоевский является для Цвейга «этим неистовым, этим необузданным»: «Он нигде не останавливался» [50].
Критическая история суждений немецкоязычных писателей о Достоевском отсутствует до сих пор: первый шаг в этом направлении сделал Вольфганг Казак (Wolfgang Kasack) своей статьёй Достоевский глазами немецких писателей (Dostojewskij mit den Augen deutscher Schriftsteller) (1989): здесь проходят Франк Тисс (Frank Thiess), Германн Казак (Hermann Kasack), Германн Гессе (Hermann Hesse), Томас Манн (Thomas Mann), Ганс Эрих Носсак (Hans Erich Nossack), Генрих Бёлль (Heinrich Böll), Зигфрид Ленц (Siegfried Lenz), Манес Шпербер (Manes Sperber), а также Владимир Линденберг (Wladimir Lindenberg) и Фёдор Степун (Fjodor Stepun) – если сказать совсем коротко. В этом ряду находился бы ещё Райнхольд Шнайдер (Reinhold Schneider), в его сборнике эссе Pfeiler im Strom содержится дискуссия с Идиотом Достоевского» [51].
Отмечено, что самым обстоятельным образом из всех писателей немецкого культурного пространства высказался о Достоевском Франк Тисс (Frank Thiess). Его монография Достоевский: реализм на грани трансцендентности (Dostojewskij: Realismus am Rande der Transzendenz) опубликована в 1971 г. и имеет 339 страниц. Она может быть охарактеризована как единственная, хотя и фрагментарная феноменология писательского мира Достоевского. Тисс упрекает Томаса Манна в «неведении и чужеродности» („Unkenntnis und Wesensfremdheit‘‘) при толковании Достоевского [52]. Тисс совершенно отказывается от того, чтобы вводить в обсуждение связь гениальности с болезнью, но позволяет, как и Томас Манн, хотя и совершенно иначе, «смешному» у Достоевского занять выдающееся место [53]. Две главы у Тисса о «смешном» в мире Достоевского заслуживают совершенно особого внимания. «Смешное», согласно Тиссу, находится «в связи с историческим местом человека и его религиозной типизацией» [54]. В Преступлении и наказании «реальное и воображаемое» так цельно переплетены, что «действительность получает воображаемое измерение», «следы которого переходят в фантастический комизм» [55]; и в «исповеди» Ставрогина понятие смешного потеряло «всю смешную ценность» и «перевёрнуто в бесовское» [56].
Мастер из России и художественность
Теперь мы переходим к другой области влияния Достоевского в Германии: к влиянию, которое оказали произведения Достоевского на сочинения немецких писателей. Чрезвычайно сложная сфера, которая относится к сравнительному литературоведению, к компаративистике. Так, совершенно очевидно Идиот Достоевского повлиял на написание романа Герхарта Гауптмана (Gerhart Hauptmann) Юродивый Эмануэль Квинт (Der Narr in Christo Emanuel Quint), который был в его время очень популярен, Братья Карамазовы Достоевского повлияли на Дело Маурициуса (Der Fall Maurizius) Я́коба Вассерма́на (Jakob Wassermann), а Двойник Достоевского – на Война Финка (Finks Krieg) Мартина Вальзера (Martin Walser).[57] Рассказы Герхарта Гауптмана (Gerhart Hauptmann) Апостол (Der Apostel) и Призрак (Phantom: Aufzeichnungen eines ehemaligen Sträflings) также ссылаются на русского мастера [58].
Демиан (Demian) Гессе был написан со знанием Подростка Достоевского. И разговор между Иваном Карамазовым и чёртом явно был под рукой Томаса Манна, когда он сочинял разговор с чёртом Адриана Леверкюна. Установить влияние Достоевского на писательский процесс, разумеется, непросто. Томас Манн предоставляет нам в своих Дневниках (Tagebüchern) поэтологический намёк, когда 16 августа 1952 г. он отмечает: начал перечитывать Подросток (Werdejahre) Достоевского. Первые страницы Цейтблома находятся под его влиянием, чего я не знал [59].
Таким образом, начало Доктора Фаустуса (1947), и, тем самым, типичный для Серенуса Цейтблома (Serenus Zeitblom) стиль повествования, был навеян предпоследним романом Достоевского, Подростком (Jüngling)(1875), что, правда, стало ясно Томасу Манну лишь при повторном чтении Достоевского. Такие поэтологические параллели до сих пор скрыты от тематических параллелей разговора с чёртом в Братьях Карамазовых.
Сравнение Кафки с Достоевским стало местом разминки для компаративистики [60]. В письме к Фелице Бауэр (Felice Bauer) от 2 сентября 1913 г. Кафка причисляет Достоевского к своим «настоящим кровным родственникам», наряду с Грильпарцер (Grillparzer), Клейст (Kleist) и Флобер (Flaubert) [61]. Насколько нам известно, Кафка читал «вслух, вне себя от восторга», своему другу Максу Броду (Max Brod) отрывок из Подростка Достоевского (глава 5, первая часть: «идея» Аркадия). Вот слова Брода:
«Я однажды записал, что он был особо восхищён Подростком (Jüngling) Достоевского (тогда назывался Ein Halbwüchsling и был издан Альбертом Лангеном (Albert Langen)) и читал мне вслух, вне себя от восторга, начало пятой главы, фантастически парадоксальный план героя, непременно стать богатым, пример с нищим на волжском пароходе и так далее. – Кафка является, несомненно, среди авторов столетия самым независимым, своенравным (своенравие, понимаемое также как смысл для себя). Ведь указание на эту пятую главу могло бы показать, как сильно сформировался его стилистический вкус на методе Достоевского» [62].
Для Бернгарда Келлермана (Bernhard Kellermann), Ганса Фаллады (Hans Fallada), Арнольда Цвейга (Arnold Zweig), Анны Зегерс (Anna Seghers), Штефана Андреса (Stefan Andres) и То́маса Бе́рнхарда (Thomas Bernhard) сочинения Достоевского дали бесспорный толчок. И Ве́рнер Бе́ргенгрюн (Werner Bergengruen) предоставил свой перевод Преступления и наказания (Schuld und Sühne) (Berlin: Th. Knaur Nachf. 1928). Что портрет Оскара Мацерата (Oskar Matzerath) пишется в главе „Мадонна 49" «Жестяного барабана» (Blechtrommel) (1959) «художником Раскольниковым, и неоднократно и сюрреалистически, правда, остаётся у Гюнтера Грасса лишь сатирическим экспромтом: «Его так назвали, потому что он постоянно говорил о преступлении и наказании».
Хаймито фон Додерер (Heimito von Doderer) уже намекает на Достоевского одноимённым названием Бесы (Die Dämonen), а Ингеборг Бахман (Ingeborg Bachmann) выражает свой интерес к великому русскому в Монологе князя Мышкина для балета «Идиот» („Der Idiot"). Коротко говоря: с того времени как Достоевский представлен на немецком языке, когда первый немецкий перевод был опубликован уже в 1846 г. в Sankt-Peterburgischen Zeitung (избранные места из романа Бедные люди), он является также реальностью в сознании немецкоязычных писателей.
Что касается Австрии, то наряду с уже названными Стефаном Цвейгом, Хаймито фон Додерер и Ингеборгой Бахманн, которые только что уже были упомянуты, особая связь существует с Достоевским у Артура Шницлера (Arthur Schnitzler), Ро́берта Му́зиля (Robert Musil), Франца Ве́рфеля (Franz Werfel) (Spiegelmensch), Йозефа Рота (Joseph Roth) (Hiob, Radetzkymarsch), Гу́става Ма́йринка (Gustav Meyrink) (Der Golem) и Пе́тера Ха́ндке (Peter Handke) (Der Chinese des Schmerzes) [63].А из швейцарских писателей это, прежде всего, Роберт Вальзер (Robert Walser), который вызвал интерес достоевсковедения [64].
К 60-м годам 19 века Достоевский становится европейской величиной, причём следует отметить, как это подчёркнуто двумя русскими исследователями, что «фундамент для европейской славы Достоевского был заложен в Германии» [65]. Но не только для ранних представителей натурализма он – со своей столь эффектно представленной в образе беднотой большого города – является некой восторженной реальностью[66], но также для Райнера Марии Рильке, который в письме 17 июля 1899 г. о раннем маленьком романе Достоевского Белые ночи выражает прямо-таки «восторг», а в 1901 г. в письме к Александру Бенуа отмечает: «Я думаю, я Вам даже сказал, как высоко я ставлю Достоевского» [67].
Особым образом Достоевский выделяется Гуго фон Гофманстал (Hugo von Hofmannsthal), который опубликовал подробное рассмотрение, доклад на тему Писатель и это время (Der Dichter und diese Zeit) – с тезисом: читающий человек сегодня попал в положение набожного (andächtigen) человека средних веков. Гофмансталь выражает это так:
«Я рассматриваю чуть ли не как жест нашего времени людей с книгой в руках, как коленопреклонённый человек со сложенными руками был жестом другого времени» [68].
Он, правда, не считает, как он добавляет, читателей, которые желают изучать что-то определённое, а читателей, которые читают «без определённого плана, постоянно меняя», «подгоняемые непрерывной, никогда не удовлетворяемой полностью страстью» [69]. «Они ищут в книгах то, что они прежде искали в дымящихся алтарях […]. Они ищут, одним словом, всеобъемлющее очарование поэзии». Они хотят быть связанными с чувственностью (mit den Adern) большой жизни [70]. «Сочиняемое» становится в связи с этим некой «функцией живого». Это не противостоит как чуждое «тем, которые живут»: «так живётся». И поэтому говорит Гофмансталь, поэтому «может» сказать Гофмансталь:
«Но для тех, кто однажды пережил сотню страниц Достоевского или пережил образ Оттилии в Избирательном Сродстве (Wahlverwandtschaften), или пережил стихотворение Гёте или стихотворение (род. падеж, Стефана) Стефана Георге (Stefan George), для этих я не говорю ничего удивительного, если я говорю вам об этом переживании как о религиозном переживании, том единственном религиозном переживании, возможно, которое было ими пережито» [71].
Видим: Достоевский здесь в 1907 г. упоминается Гофмансталем вместе с Гёте и Стефаном Георге – а это значит: он представляет сейчас силу воображения писателя, независимо от всех определённых тематик. Его имя стоит здесь для духа поэзии вообще, для ауры, в которой происходит «преображение обыкновенного» – такое ведущее понятие встречается в философии искусства Артура Данто (Arthur C. Dantos) [72].
К чему я клоню, приводя признания Рильке и Гофмансталя о Достоевском, так это факт, что побуждающий призыв Достоевского не может ограничиться определённым литературным направлением, как например натурализмом (что марксистски ориентированные историки литературы, в конце концов, хотят внушить своим читателям); воздействие Достоевского универсально: Эрнст Ю́нгер (Ernst Jünger) как и Бертольд Брехт (Bert Brecht) усвоили его, хотя Брехт пытается уклониться, когда он высказывается в 1940 г. О реализме (Über den Realismus). Он говорит там:
«Реалистично придавать значимость причинам процессов в обществе (из-за его подверженности чужому влиянию). Братья Карамазовы не являются произведением реалиста, хотя они содержат реалистические детали, поскольку у Достоевского нет никакого интереса придавать практическую значимость причинам процессов в обществе, которые он изображает, он преднамеренно ясно хочет удалить их из него» [73].
То, что Брехт может использовать своё правильное наблюдение только негативно, не удивляет.
Таким образом, можно констатировать постоянное присутствие Достоевского в сознании немецкоязычных писателей с конца 19 века, по ту сторону утверждения и отрицания, что, правда, не исключает особого творческого освоения «наиболее сложного русского» через Германа Гессе, Франца Кафку, Альфреда Дёблина (Alfred Döblin) и Томаса Манна.
Далее здесь следует вспомнить присутствие Достоевского в лирике экспрессионизма: так, у Альфреда Вольфенштайна (Alfred WoIfenstein) (Достоевский) (Dostojewskij), Иоганнеса Р. Бехера (Johannes R. Becher) Достоевскому (An Dostojewskij), Гео́рга Тракля (Georg Trakl) (Die Verfluchten, Sonja, Afra, 2-я редакция), Готфрида Бенна (Gottfried Benn) (St. Petersburg - Mitte des Jahrhunderts). У Фердинанда Хардекопфа (Ferdinand Hardekopf) в Мы призраки (Wir Gespenster), написанном в 1914 г., читаем:
«Из мира Достоевского мы остались: призраки, которые любят Лотрека и отчаяние». („Aus der Welt Dostojewskijs sind wir hinterblieben: Gespenster, die Lautrec und Verzweiflung lieben.")
Одним словом: центральные ситуации в крупных романах Достоевского, Преступление и наказание, Идиот, Бесы, Подросток, Братья Карамазовы с давних пор стали «влиятельной окаменелостью» в смысле Эрвина Коппена (Erwin Koppen) (1971) [74]: в разнообразных связях они живут как прочные состояния коллективного литературного сознания, присутствуют «здесь» - даже для тех, кто Достоевского знает только из вторых рук – как, например, одиночество убийцы, как оно стало образцом с Раскольниковым, или ад улик, которые в Братьях Карамазовых порождают образец юридической ошибки. В самых различных пограничных ситуациях, которые, правда, все ориентированы на главное понятие «вины», Достоевский, виртуоз рассказа, продемонстрировал, как «это делается», то есть, что следует сделать искусно, чтобы добиться высшего воздействия. Кто пытается [сделать] подобное, тот автоматически использует «патенты» Достоевского.
Да, и нельзя забывать, что ведь литература США и Франции также была подвержена интенсивному влиянию Достоевского, так что, например, Драйзер (An American Tragedy) или Жюльен Грин (Julien Green) (Leviathan) в немецком переводе вносят свою долю, которая подкрепляет существование влиятельных окаменелостей Достоевского в немецком языковом пространстве [75].
Как элемент мировой литературы сочинения Достоевского подключены к системе «коммуникационных труб». Я говорю здесь, что подчёркнуто, о его значении для писательского процесса 20 века – с оглядкой на немецкое языковое пространство. Здесь лежит только частично исследованное поле. «Пишут под присмотром всего написанного до сих пор», - констатирует Бото Штраус (Botho Strauß) [76].
На пути к литературоведению
Здесь настоятельно необходимо теперь сказать слово о том, что мы вообще подразумеваем, когда говорим «Достоевский». Есть несомненно совершенно разные вещи! Тут, прежде всего, индивидуум Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881), который со своей фактически сенсационной биографией вновь и вновь привлекает интерес для психологического анализа [77] как эпилептик, как каторжник, как замученный долгами игрок, как дважды женатый мужчина и как любовник Аполлинарии («Полины») Сусловой. Да, кто хочет оспаривать, что жизнь этого беспокойного русского показывает все составные части, чтобы спутать его с образами его собственных романов! Арестант, игрок, царь писателей – так гласит даже подзаголовок монографии о Достоевском моей норвежской коллеги Гейр Щецо (Geir Kjetsaa), которая с 1986 есть также и на немецком языке и вполне очевидно находит широкую публику [78]. Достоевский в Германии сегодня значит следующее: Фёдор Достоевский на немецкой земле в Дрездене, Бад-Эмсе, Висбадене, Бад-Хомбурге, Баден-Бадене – только что соответственно документированные Карлой Хильшер (Karla Hielscher) [79]. А о Достоевском в Швейцарии Ильма Ракуза (Ilma Rakusa) и Феликс Филипп Ингольд (Felix Philipp Ingold) издали целую книгу [80].
И всегда рядом с романистом находится политический публицист Достоевским, национально-русский славянофил, Дневник писателя которого до сих пор издан на немецком только один раз, хотя и не полностью, но тем не менее в четырёх томах, в переводе Александра Элиасберга (Alexander Eliasberg): Musarion-Verlag München, 1921-1923 – и после этого никогда более не переиздавались. В наличии только выдержки. Правда, в рамках издания Достоевского в Aufbau-Verlag, Berlin и Weimar, заявлен трёхтомный новый перевод Дневника писателя, но он (перевод) ещё не опубликован.
Всё ещё ценное изображение этой явно политической сферы творчества Достоевского представил на немецком языке Йозеф Богатец (Josef Bohatec) своей изданной в 1951 г. монографией Самодержавные мысли и жизненная философия Достоевского (Der Imperialismusgedanke und die Lebensphilosophie Dostojewskijs). Ведь русская православная церковь была государственной церковью с созданным Петром Великим Священным Синодом во главе. «Политика» и «религия» стали одним целым, Достоевский тоже мог иметь своё собственное представление о будущем такого слияния. Остаётся, однако, зафиксировать: Достоевский был не Лессинг. Религиозная толерантность была ему чужда: иудаизм, ислам, католицизм не находили в его глазах никакой пощады. Интерес к этому аспекту публицистики и прозаических сочинений Достоевского интенсивный, хотя, несомненно, не доминирующий [81]. Великий Инквизитор (место действия: Севилья в 16 веке) в этом размышлении является, конечно, исключением. Эта легенда из Братьев Карамазовых (книга V, глава V) произвела огромное действие. Как определяет Рене Филеп-Миллер (René Fülöp-Miller) в своей Власть и тайна иезуитов. Культурная и духовная история (Macht und Geheimnis der Jesuiten), Достоевский собрало обвинение против Рима «более опасное, чем все предшествовавшие антииезуитские сочинения, ибо их автор обладал той таинственной изобразительной силой, которая смогла придать только его обвинению силу и длительное воздействие» [82]. Всё же в мире считается так: типичный читатель Достоевского не желает знать о Достоевском – антисемите, враге турок, о презирающем поляков, поскольку художественное творчество есть нечто другое, чем публицистика. В поэтическом творчестве всё метафора. Правда, остаётся факт, что Достоевский ведь все эти религиозно инспирированные предрассудки, которые укоренены в его понятии «народа», в буквальном смысле помещает в сочинение, то есть с высочайшей изощрённостью переносит в характеры и поступки. Таким образом, они не ведут совершенно обособленное существование, которое [не] ограничивается его публицистическими сочинениями.
Теперь мы подходим к Достоевскому – рассказчику, романисту, «Макиавелли романа», ведь этот Достоевский, который с давних пор стал составной частью «мировой литературы», содержит, с ориентацией на целостный образ человека, факторы влияния, которое объединяют в себе самые разнообразные интересы. Имя художника становится теперь титулом для дела его писательства. И художник Достоевский такой, который таит в себе творящих действительность криминологов, психопатологов, теологов, моральных философов и политиков, как области «знания», которые переносятся в характер и поступок. О способе такого переноса решение принимает «художественный разум», то есть художник.
Стремление научно относиться к писательским, то есть литературным, а именно – к художественным сочинениям Достоевского, стремление, которое во второй половине 20-го века явно возросло – это стремление представляется несколько затруднительным, поскольку Достоевский весьма профессионален и в самых различных дисциплинах чувствуют себя, как дома. Преступление, сексуальность, болезнь, религия, политика и комизм являются, как я уже отметил в начале, тематическими областями его крупных романов, которые прочно скрепляются скрупулёзной техникой повествования. При более близком рассмотрении, правда, оказывается, что повествовательная техника Достоевского всегда вырастает из своеобразия создаваемого образа. Так, в Братьях Карамазовых на это обращает внимание знаменитая пустая строка, как внезапный разрыв в повествовании на самом напряженном месте (книга 8, глава 4; «В темноте»), что знание хрониста основывается здесь на свидетельских показаниях и совершенно не является способом дурачить читателя [83].
Иначе говоря: приведённое в каждом из пяти больших романов Достоевского содержание относится к совершенно разным факультетам: теологическому, юридическому, медицинскому и философскому. В действительности исследования Достоевского распределяются между этими различными факультетами. Мне хотелось бы распределить историю влияния Достоевского по факультетам. Но это не позволяет дать ни малейшего повода впечатлению, как будто бы сочинения Достоевского в зависимости от научной дисциплины его интерпретаторов имели бы различные центры, которые были бы равноправными.
Если сказать коротко: Достоевский-романист ещё мог бы быть очень интересен для теологов (католических: Романо Гвардини (Romano Guardini); протестантских: Эрнст Бенц (Ernst Benz), Конрад Онаш (Konrad Onasch)), юристов-криминалистов (Хайнц Вагнер (Heinz Wagner)), психиатров (Хуберт Телленбах (Hubertus Tellenbach)), моральных философов (Рейнхард Лаут (Reinhard Lauth)): он всецело принадлежит литературоведению, причём это, конечно, только тогда может соответствовать его ответственности перед эстетическим опытом, когда оно не отступает на формальные позиции, а позволит выразиться относительно его текстов отдельным наукам как вспомогательным наукам и если оно понимает себя как общее и сравнительное литературоведение с поэтологией в центре.
На пути к намеченной здесь цели находится западнонемецкая, австрийская и швейцарская славистика, как она сформировалась в пятидесятые годы после предыдущего начала в 30-е: с Дмитрием Чижевским (Dmitrij Tschižewskij) (Heidelberg), Альфред Раммельмайер (Alfred Rammelmeyer) (Frankfurt am Main), Максимилиан Браун (Maximilian Braun) (Göttingen), Вильгельм Леттенбауер (Wilhelm Lettenbauer) (Freiburg), Вольфганг Геземанн (Wolfgang Gesemann) (Saarbrücken), Лудольф Мюллер (Ludolf Müller) (Tübingen), Йоханес Хольтузен (Johannes Holthusen) (München), Ульрих Буш (Ulrich Busch) (Kiel), Ганс Роте (Hans Rothe) (Bonn), Вольф Шмид (Wolf Schmid) (Hamburg), Вольфганг Казак (Wolfgang Kasack) (Köln), Рольф-Дитер Клуге (Rolf-Dieter Kluge) (Tübingen), Ренате Лахманн (Renate Lachmann) (Konstanz), Бригитте Шульце (Brigitte Schultze) (Mainz), Ааге Хансен-Лёве (Aage Hansen-Löve) (München), Рудольф Нойхойзер (Rudolf Neuhäuser) (Klagenfurt), Феликс Филипп Ингольд (Felix Philipp Ingold) (St. Gallen) и Биргит Харрес (Birgit Harress) (Frankfurt am Main, сейчас в Leipzig). О себе самом я не могу говорить [84].
Здесь следует указать, по крайней мере на основной, международный горизонт западной славистики. Так, с 1971 г. существует Международное общество Достоевского, которое показательно было основано на западногерманской почве, в Бад-Эмсе, где Достоевский провёл в целом с 1874 г. четыре длинных курортных сезона и где он работал над двумя своими последними романами, Подросток (1875) и Братья Карамазовы (1879-1880). С 1980 г. издаются, как центральный издательский орган этого Общества, Dostoevsky Studies (Исследования по Достоевскому) с соответствующей обширной библиографией по международным исследованиям Достоевского.
Исследования творчества Достоевского в ГДР могли выполнять только единственную задачу в прокрустовом ложе предписанной идеологии: хвалить критический реализм Достоевского и плакатно осуждать его ложное сознание. Ключевое слово: противоречивость. В зависимости от обстоятельств явные или скрытые герменевтические максимы предоставлял Максим Горький:
« Гениальность Достоевского неоспорима, по силе изобразительности его талант равен, может быть, только Шекспиру. Но как личность, как "судью мира и людей" его очень легко представить в роли средневекового инквизитора» [85].
Теория и практика той политической герменевтики, которой было выражено публичное обращение с Достоевским в ГДР, ещё ждёт своей исторической разработки, которая, естественно, должна учитывать соответствующую канализированную историю влияния Достоевского в Советском Союзе. Как симптоматично остаётся отметить, что такие писатели как Хорст Бинек (Horst Bienek) или Манфред Билер (Manfred Bieler) признавали себя сторонниками Достоевского, после того как они добрались до «Запада» [86].
Опасность систематического использования идеологических заготовок (Vorprägungen) для естественного понимания находится вне сомнения. Солидное исследование вновь-таки – и это позволяет помнить – сможет внести немалый вклад для распространения трудов писателя. Скорее такое распространение всегда является следствием первого (исследования). Только успех Достоевского у своих читателей вызвал к жизни план филологии Достоевского, славистов, которые теперь действуют как «знатоки» и заявляют права на монополию. Правда, некий разумный друг литературы читает Достоевского всё ещё лучше, чем славист-«учёный», который за деревьями не видит леса.
Но в положительном смысле имеющая большие последствия филология Достоевского должна следовать, как мне кажется, за кропотливой работой переводчика, как капля за каплей (Sickerwirkung), значение которых не может быть переоценено. И ведь «исследователи» Достоевского образуют, со всем тем, что они делают, в пределах читательского круга Достоевского только крохотный «летучий остров», на котором позволено явно лишь постепенно научиться научно адекватному обращению с избранным предметом [87].
Действительное познание о «наиболее сложном русском» не должно быть предоставлено филологии Достоевского в узком смысле. Так, глубочайшие результаты исследования в «психологии» Достоевского находятся в размышлениях Адорно Место рассказчика в современном романе (Standort des Erzählers im zeitgenössischen Roman) [88]. Там говорится, как бы вскользь: «Поскольку у него [Достоевского] вообще есть психология, это психология мыслимого (intelligiblen) характера, психология сущности, а не эмпирического – людей, как они бегают».*** Более убедительно нельзя сформулировать антропологическую предпосылку Достоевского. Такая стенограмма познания, однако, предполагает, чтобы можно было постичь во всей её важности, свободную от ложной науки готовность читателей Достоевского к абстракции и проницательности. Если рассматривать с точки зрения истории литературы, ссылки на «интеллигибельного человека» (auf den „intelligiblen Menschen") (homo noumenon в смысле Канта) имеют связь с Шиллером [90]. Наследственность и жизненные обстоятельства (окружение) не являются причиной для Достоевского, определять человека как несвободное существо. Тем самым его писательское представление об образе человека направлено против двух центральных научных суждений его столетия. Всё это заставляет задуматься над изречением Адорно, даже если и не углубляться.
Достоевский на немецком языке сегодня
Теперь вернёмся к моему изначально выраженному утверждению, что немецкоязычное восприятие Достоевского естественным образом зависит от наличия немецких переводов – лишь в последнее время имеется систематическая критика переводов [91]. С конца 19 века (Fin de siècle) до сегодняшнего дня Достоевский есть в наличии в каждом книжном магазине, широко представлен полным собранием сочинений издательства Piper 1906-1919. Политически обусловленные белые пятна остаются эпизодами. Да, издательские дома не устают предлагать его в самых разных переводах, так что наряду с Piper, Artemis-Winkler, Insel и Manesse – далее Goldmann, Reclam и Deutscher Taschenbuch Verlag.
Вспомним также о новом переводе произведений Достоевского в издательстве Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, который издаётся с 1980 г. и, без сомнения, заслуживает больше внимания, чем он до сих пор получил. Из первоначально запланированных двадцати томов Собрания сочинений, называемого «серебряным изданием», двенадцать уже изданы (1980-1990). Тринадцатитомное издание, за исключением Преступления и наказания, выверенных переводов соответственно различных переводчиков (W. Creutziger, G. Dalitz, J. Dalitz, H. Herboth, W. Plackmeyer, D. Pommerenke, G. Schwarz) вышло в 1994 г. в издательстве Aufbau-Verlag: Все романы и рассказы (Sämtliche Romane und Erzählungen) (с послесловием ко всем томам, написанным M. Wegner). Старый перевод Х.Рёль (H. Röhl) романа Преступление и наказание в составе двадцатитомного Собрания сочинений сейчас заменён новым – выполненным М. и Р. Бройер (M. и R. Bräuer).
Чрезвычайно выразительным является то, что издательство Ammann-Verlag в Цюрихе, несмотря на уже существующую конкуренцию, с 1994 г. выпускает пять больших романов Достоевского в новом переводе Светланы Гайер (Swetlana Geier), которая теперь Преступление и наказание (Schuld und Sühne), как это соответствует русскому оригиналу, переводит как Verbrechen und Strafe – вариант названия, которое Александр Эл
Загружено переводчиком: Смотрицкий Евгений Юрьевич Биржа переводов 01
Язык оригинала: немецкий Источник: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?searchPattern=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA&textid=3205&level1=main&level2=articles