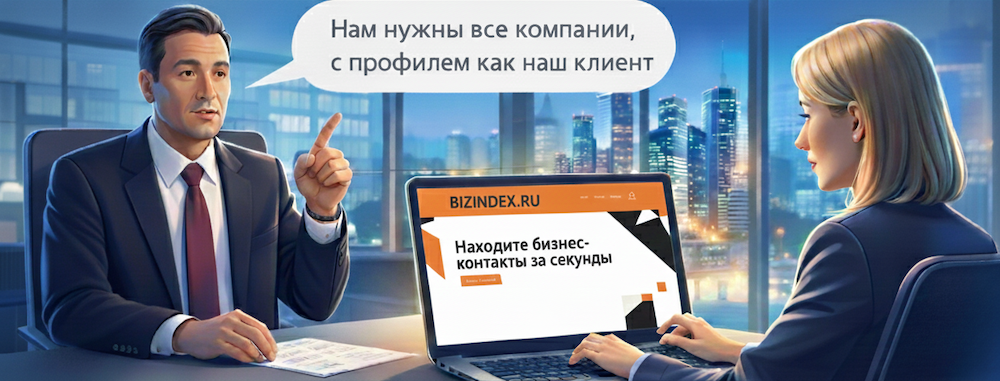Перевод отрывка из романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» просмотров: 8457
Перевод отрывка из романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»
(примечание – перевод уникальный, выполнен мной)
Оригинал.
Chapter 1
The studio was filled with the rich odour of roses, and when the light summer wind stirred amidst the trees of the garden, there came through the open door the heavy scent of the lilac, or the more delicate perfume of the pink-flowering thorn.
From the corner of the divan of Persian saddle-bags on which he was lying, smoking, as was his custom, innumerable cigarettes, Lord Henry Wotton could just catch the gleam of the honey-sweet and honey-coloured blossoms of a laburnum, whose tremulous branches seemed hardly able to bear the burden of a beauty so flame-like as theirs; and now and then the fantastic shadows of birds in flight flitted across the long tussore-silk curtains that were stretched in front of the huge window, producing a kind of momentary Japanese effect, and making him think of those pallid, jade-faced painters of Tokyo who, through the medium of an art that is necessarily immobile, seek to convey the sense of swiftness and motion. The sullen murmur of the bees shouldering their way through the long unmown grass, or circling with monotonous insistence round the dusty gilt horns of the straggling woodbine, seemed to make the stillness more oppressive. The dim roar of London was like the bourdon note of a distant organ.
In the centre of the room, clamped to an upright easel, stood the full-length portrait of a young man of extraordinary personal beauty, and in front of it, some little distance away, was sitting the artist himself, Basil Hallward, whose sudden disappearance some years ago caused, at the time, such public excitement and gave rise to so many strange conjectures.
As the painter looked at the gracious and comely form he had so skilfully mirrored in his art, a smile of pleasure passed across his face, and seemed about to linger there. But he suddenly started up, and closing his eyes, placed his fingers upon the lids, as though he sought to imprison within his brain some curious dream from which he feared he might awake.
“It is your best work, Basil, the best thing you have ever done,” said Lord Henry languidly. “You must certainly send it next year to the Grosvenor. The Academy is too large and too vulgar. Whenever I have gone there, there have been either so many people that I have not been able to see the pictures, which was dreadful, or so many pictures that I have not been able to see the people, which was worse. The Grosvenor is really the only place.”
“I don’t think I shall send it anywhere,” he answered, tossing his head back in that odd way that used to make his friends laugh at him at Oxford. “No, I won’t send it anywhere.”
Lord Henry elevated his eyebrows and looked at him in amazement through the thin blue wreaths of smoke that curled up in such fanciful whorls from his heavy, opium-tainted cigarette. “Not send it anywhere? My dear fellow, why? Have you any reason? What odd chaps you painters are! You do anything in the world to gain a reputation. As soon as you have one, you seem to want to throw it away. It is silly of you, for there is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about. A portrait like this would set you far above all the young men in England, and make the old men quite jealous, if old men are ever capable of any emotion.”
“I know you will laugh at me,” he replied, “but I really can’t exhibit it. I have put too much of myself into it.”
Lord Henry stretched himself out on the divan and laughed.
“Yes, I knew you would; but it is quite true, all the same.”
“Too much of yourself in it! Upon my word, Basil, I didn’t know you were so vain; and I really can’t see any resemblance between you, with your rugged strong face and your coal-black hair, and this young Adonis, who looks as if he was made out of ivory and rose-leaves. Why, my dear Basil, he is a Narcissus, and you—well, of course you have an intellectual expression and all that. But beauty, real beauty, ends where an intellectual expression begins. Intellect is in itself a mode of exaggeration, and destroys the harmony of any face. The moment one sits down to think, one becomes all nose, or all forehead, or something horrid. Look at the successful men in any of the learned professions. How perfectly hideous they are! Except, of course, in the Church. But then in the Church they don’t think. A bishop keeps on saying at the age of eighty what he was told to say when he was a boy of eighteen, and as a natural consequence he always looks absolutely delightful. Your mysterious young friend, whose name you have never told me, but whose picture really fascinates me, never thinks. I feel quite sure of that. He is some brainless beautiful creature who should be always here in winter when we have no flowers to look at, and always here in summer when we want something to chill our intelligence. Don’t flatter yourself, Basil: you are not in the least like him.”
“You don’t understand me, Harry,” answered the artist. “Of course I am not like him. I know that perfectly well. Indeed, I should be sorry to look like him. You shrug your shoulders? I am telling you the truth. There is a fatality about all physical and intellectual distinction, the sort of fatality that seems to dog through history the faltering steps of kings. It is better not to be different from one’s fellows. The ugly and the stupid have the best of it in this world. They can sit at their ease and gape at the play. If they know nothing of victory, they are at least spared the knowledge of defeat. They live as we all should live—undisturbed, indifferent, and without disquiet. They neither bring ruin upon others, nor ever receive it from alien hands. Your rank and wealth, Harry; my brains, such as they are—my art, whatever it may be worth; Dorian Gray’s good looks—we shall all suffer for what the gods have given us, suffer terribly.”
“Dorian Gray? Is that his name?” asked Lord Henry, walking across the studio towards Basil Hallward.
“Yes, that is his name. I didn’t intend to tell it to you.”
“But why not?”
“Oh, I can’t explain. When I like people immensely, I never tell their names to any one. It is like surrendering a part of them. I have grown to love secrecy. It seems to be the one thing that can make modern life mysterious or marvellous to us. The commonest thing is delightful if one only hides it. When I leave town now I never tell my people where I am going. If I did, I would lose all my pleasure. It is a silly habit, I dare say, but somehow it seems to bring a great deal of romance into one’s life. I suppose you think me awfully foolish about it?”
“Not at all,” answered Lord Henry, “not at all, my dear Basil. You seem to forget that I am married, and the one charm of marriage is that it makes a life of deception absolutely necessary for both parties. I never know where my wife is, and my wife never knows what I am doing. When we meet—we do meet occasionally, when we dine out together, or go down to the Duke’s—we tell each other the most absurd stories with the most serious faces. My wife is very good at it—much better, in fact, than I am. She never gets confused over her dates, and I always do. But when she does find me out, she makes no row at all. I sometimes wish she would; but she merely laughs at me.”
“I hate the way you talk about your married life, Harry,” said Basil Hallward, strolling towards the door that led into the garden. “I believe that you are really a very good husband, but that you are thoroughly ashamed of your own virtues. You are an extraordinary fellow. You never say a moral thing, and you never do a wrong thing. Your cynicism is simply a pose.”
“Being natural is simply a pose, and the most irritating pose I know,” cried Lord Henry, laughing; and the two young men went out into the garden together and ensconced themselves on a long bamboo seat that stood in the shade of a tall laurel bush. The sunlight slipped over the polished leaves. In the grass, white daisies were tremulous.
After a pause, Lord Henry pulled out his watch. “I am afraid I must be going, Basil,” he murmured, “and before I go, I insist on your answering a question I put to you some time ago.”
“What is that?” said the painter, keeping his eyes fixed on the ground.
“You know quite well.”
“I do not, Harry.”
“Well, I will tell you what it is. I want you to explain to me why you won’t exhibit Dorian Gray’s picture. I want the real reason.”
“I told you the real reason.”
“No, you did not. You said it was because there was too much of yourself in it. Now, that is childish.”
“Harry,” said Basil Hallward, looking him straight in the face, “every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. The sitter is merely the accident, the occasion. It is not he who is revealed by the painter; it is rather the painter who, on the coloured canvas, reveals himself. The reason I will not exhibit this picture is that I am afraid that I have shown in it the secret of my own soul.”
Lord Henry laughed. “And what is that?” he asked.
“I will tell you,” said Hallward; but an expression of perplexity came over his face.
“I am all expectation, Basil,” continued his companion, glancing at him.
“Oh, there is really very little to tell, Harry,” answered the painter; “and I am afraid you will hardly understand it. Perhaps you will hardly believe it.”
Lord Henry smiled, and leaning down, plucked a pink-petalled daisy from the grass and examined it. “I am quite sure I shall understand it,” he replied, gazing intently at the little golden, white-feathered disk, “and as for believing things, I can believe anything, provided that it is quite incredible.”
The wind shook some blossoms from the trees, and the heavy lilac-blooms, with their clustering stars, moved to and fro in the languid air. A grasshopper began to chirrup by the wall, and like a blue thread a long thin dragon-fly floated past on its brown gauze wings. Lord Henry felt as if he could hear Basil Hallward’s heart beating, and wondered what was coming.
“The story is simply this,” said the painter after some time. “Two months ago I went to a crush at Lady Brandon’s. You know we poor artists have to show ourselves in society from time to time, just to remind the public that we are not savages. With an evening coat and a white tie, as you told me once, anybody, even a stock-broker, can gain a reputation for being civilised.
Перевод.
Глава 1
Мастерская художника была наполнена ароматом роз и когда легкий летний ветер шевелил листья деревьев в саду, он, влетая в распахнутую дверь, приносил с собой дурманящий запах сирени или более нежный запах розовых цветов боярышника.
С покрытого персидскими подушками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, и курил, как всегда, бесчисленные сигареты одну за другой, был виден только куст ракитника, золотистые как мед и душистые цветы которого ярко пылали в лучах солнца, а их трепещущие ветки, казалось, едва выдерживали тяжесть своей сверкающей красоты. Время от времени, фантастической красоты тени птиц в свободном полете мелькали и отражались в длинных занавесках огромного. На мгновение могло показаться, что они похожи на японские рисунки. Тогда лорд Генри начинал думать о художниках из Токио, которые стремились передать движение и стремительность посредством искусства, которое само по себе статично. Угрюмое жужжание пчел, которые прокладывали свой путь через высокую нескошенную траву или однообразно и настойчиво кружили над беспорядочно разросшейся и осыпанной золотой пылью жимолостью, казалось, делало тишину еще более угнетающей. Гудение Лондона казалось похожим на шум далекого органа.
Посреди комнаты стоял портрет молодого человека неописуемой красоты, вертикально прикрепленный к мольберту, а перед мольбертом, в нескольких шагах от него, сидел и сам художник, Бэзил Холлуорд, чье внезапное исчезновение несколько лет назад вызвало большое эмоциональное возбуждение у людей и породило множество странных предположений.
Пока художник смотрел на грациозного и прекрасного юношу, которого он сумел так искусно изобразить на портрете, довольная улыбка появилась на его лице и на мгновение застыла. Внезапно он вскочил с места, закрыл глаза и прислонил пальцы к векам, как будто желая удержать в уме какой-то необычный сон, от которого боялся проснуться.
— Это твоя лучшая работа, Бэзил, лучшее из всех картин, что ты написал , — вяло пробормотал лорд Генри. Ты обязательно должен в следующем году послать ее на выставку в Гросвенор. Что же касается Академии, то она слишком громадна и общедоступна. Всякий раз, когда я ее посещал, я встречал там так много людей, что не мог даже увидеть картины, это само по себе было ужасно, или видел столько разных картин, что не удавалось посмотреть на людей, это было еще хуже. Действительно, Гросвернор – это единственное подходящее место.
— Я вообще думаю, что не буду выставлять этот портрет, — ответил художник, резко откинув голову, по своей странной манере, над которой часто посмеивались его друзья в Оксфорде. — Нет, я никуда его не пошлю.
Лорд Генри высоко поднял брови и с изумлением посмотрел на художника сквозь клубы голубого дыма, который причудливо кольцами поднимавшийся из его пропитанной опиумом сигареты.
— Никуда его не пошлешь? Но почему, дорогой друг? У тебя есть на это причина? Вы, художники, странный народ! Вы делаете все возможное, чтобы заработать репутацию и когда вы ее добиваетесь, она вам становится уже не нужна. Это глупо, поскольку, когда о тебе не говорят совсем во много раз хуже, чем когда о тебе говорят. Портрет возвысил бы тебя среди молодых художников, а старых заставил бы сильно завидовать, если они вообще еще способны испытывать какие-либо эмоции.
— Я знаю, что ты будешь надо мною смеяться, — ответил художник, — но я действительно не могу выставить этот портрет, поскольку вложил в него слишком много самого себя.
Лорд Генри во весь рост растянулся на диване и захохотал.
— Я знал, что ты будешь смеяться. И все же, это чистая правда.
— Много самого себя! Честное слово, Бэзил, я не подозревал, что ты настолько тщеславен и я не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой друг, с твоим суровым морщинистым лицом и черными, как смоль, волосами, и этим юным Адонисом, который словно создан из слоновой кости и лепестков роз. Но Бэзил, он — Нарцисс, а ты…Конечно, лицо у тебя выражает интеллект и все в этом духе. Но красота, истинная красота, исчезает там, где появляется интеллект. Интеллект уже сам по себе вносит некоторые особенности, и его наличие нарушает гармонию черт лица. Как только человек начнет думать, у него или сильно увеличивается нос, или лоб, или его лицом происходит что-то ужасное. Посмотри на любого успешного ученого. Они все очень уродливы! Исключением являются служители церкви. Но в церкви не надо думать. Епископ в восемьдесят лет продолжает говорить то, чему его учили, когда ему было восемнадцать лет, — естественно, его лицо выглядит прекрасно. Твой таинственный молодой друг, имени которого ты мне никогда не называл, и портрет которого меня очаровывает, никогда ни о чем не думает. Я в этом абсолютно уверен. Наверное, он — безмозглое и прекрасное создание, которое нам нужно было бы всегда иметь перед рядом: зимой, когда нет цветов, чтобы радовать взгляд и летом, чтобы освежить разгоряченный разум. Не льсти себе, Бэзил: ты ни капли на него не похож.
— Ты не понимаешь меня, Гарри, — ответил художник. — Конечно, я на него не похож. И я это прекрасно знаю. Вообще, я бы очень не хотел выглядеть как он. Ты пожимаешь плечами? А я говорю тебе правду. В судьбе людей, физически или духовно выдающихся, есть некий рок, такой рок, который на протяжении всей истории словно побуждал королей делать неверные шаги. Намного лучше ничем не отличаться от своих товарищей. В выигрыше всегда остаются дураки и уроды. Они могут спокойно сидеть спокойно и наблюдать за игрой других. Если они ничего не знают о победах, то им не дано испытать горечь поражений. Они живут так, как нужно жить всем — равнодушные, без волнений, безмятежно. Они никому не портят жизнь, но и сами не страдают от других. Ты занимаешь высокое положение Гарри, у меня есть интеллект, какой бы он ни был, а также мое искусство у Дориана Грея — его красота. И за все эти дары богов мы будем когда-нибудь страдать, ужасно страдать.
— Дориана Грея? Это его имя? — спросил лорд Генри, идя к Холлуорду.
— Да, это его имя. Я не намеревался тебе его называть.
— Но почему нет?
— Я не могу этого объяснить. Когда я безмерно люблю кого-нибудь, я никому не называю его имя. Это то же самое, что отдать другим людям какую-то часть дорогого твоему сердцу человека. Я стал более скрытен. Это единственное, что способно сделать для нас современную жизнь загадочной и великолепной. Самая обыденная вещица становится восхитетельной, как только ее начинают хранить в тайне от людей. Когда я покидаю родной город, я никогда не говорю родне, куда еду. Если я им расскажу, я не получу от этого никакого удовлетворения. Должен сказать, что это глупая привычка, но она привносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Мне кажется, ты думаешь, что это ужасно глупо?
— Ни капли, — ответил лорд Генри, — Ни капельки, дорогой Бэзил! Кажется, ты забыл, что я женат, а единственная прелесть брака заключается в том, что обеим сторонам приходится врать друг другу. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена не знает, чем я занимаюсь. Когда мы встречаемся, — а мы иногда встречаемся, когда вместе обедаем где-нибудь или посещаем герцога, — мы с самыми серьезными лицами рассказываем друг другу всякие выдуманные истории. У жены это получается намного лучше, чем у меня. Она никогда путается в датах, а со мной это происходит часто. Но если она уличает меня во лжи, она ни капельки на меня не сердится. Иногда мне хочется, чтобы она сердилась, но она просто смеется надо мной.
— Мне очень не нравится, когда ты в так говоришь о своей семейной жизни, Гарри, — сказал Бэзил Холлуорд, идя по направлению к двери, ведущей в сад. — Я уверен, что ты действительно хороший муж, но ты стыдишься своей добродетели. Ты неординарный человек. Никогда не говоришь ничего нравственного и никогда не совершаешь безнравственных поступков. Твой цинизм всего лишь поза.
— Знаю, что быть естественным — это поза, и самая ненавистная поза! — воскликнул лорд Генри, заливаясь от смеха.
Молодые люди вышли в сад и спрятались в тени высокого лаврового куста, усевшись на бамбуковую скамью. Солнце проникало сквозь лакированные листья дерева. В траве трепетно покачивались белые маргаритки.
После некоторой паузы в разговоре, лорд Генри посмотрел на часы.
— Боюсь, я должен уходить, Бэзил, — пробормотал он. — Но прежде, чем я уйду, ты должен ответить мне на тот вопрос, который я задал тебе ранее.
— О чем ты? — спросил художник, не поднимая глах.
— Ты прекрасно знаешь, о чем.
— Нет, Гарри, я не знаю.
— Хорошо, я тебе скажу тебе. Я хотел бы, чтобы ты мне объяснил, почему ты не послал на выставку портрет Дориана Грея. Я хочу знать истинную причину.
— Я сказал тебе причины.
— Нет. Ты сказал, что в этот портрет ты вложил слишком много самого себя. Но это же ребячество!
— Гарри. — сказал Бэзил Холлуорд, глядя лорду Генри прямо в лицо. — Каждый портрет, написанный с нежностью, — это портрет самого художника, а не того, кто на нем изображен. Не его сущность раскрывает на разукрашенном полотне художник, он раскрывает самого себя. Причина, по которой я не хочу выставлять портрет, заключается в том, что я боюсь раскрыть тайну моей души.
Лорд Генри захохотал.
— А что же это за тайна? — спросил он.
— Я расскажу тебе, — сказал Холлуорд, но его лицо выражало некоторое замешательство.
— Я жду, Бэзил, — настаивал собеседник, глядя на него.
— Говорить здесь почти нечего, Гарри – ответил художник, - И боюсь, ты вряд ли меня поймешь. А может быть, даже не поверишь.
Лорд Генри улыбнулся, наклонился, сорвал в траве маргаритку с розовыми лепестками и начал ее рассматривать.
— Я абсолютно уверен, что пойму, — отозвался он, внимательно разглядывая золотистый пестик цветка, покрытый белым пухом. — А что касается веры, то я готов поверить во что угодно, особенно, если это что-то невероятное.
Ветер стряхнул несколько цветков с деревьев и тяжелые кисти сирени, словно состоящие из звездочек, медленно закачались в разнеженной зноем сонной тишине. Кузнечик застрекотал вдоль стены и воздухе, словно длинная голубая нить, мелькнула стрекоза на прозрачных коричневых крыльях. Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди Бэзила, и он пытался себе представить, что же будет дальше.
— История такова — сказал художник, немного помолчав. — Два месяца назад я был на светском приеме у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе, чтобы показать людям, что мы не дикари. Когда-то ты сказал мне, что в вечернем фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой игрок, может сойти за цивилизованного человека.
Загружено переводчиком: Киселева Марина Владимировна Биржа переводов 01
Язык оригинала: английский